
Борис Павлович мечтает вывести на сцену прозу уединенного «мечтательного мазохиста»
Чтение книг — вот самое доступное и гуманное из искусств, способное осчастливить, «лишить сна», а если серьезно — сделать окружающую действительность выносимой, приемлемой. В силу этого своего демократизма, чтение — любимое занятие культурного провинциала, лишенного возможности копаться, куда пойти и на что посмотреть. Зато с книгами выбор всегда есть. В том числе — стать ли ему улицкой Сонечкой, созерцательно и с явным удовольствием погружаясь в «темные аллеи» литературы, или взирать на нее холодным недоверчивым глазом критика-оценщика, что почем.
Члены клуба любителей книги «Зеленая лампа»(да) при библиотеке Герцена пытаются соединить свою бескорыстную любовь с попытками литературоведческого анализа, которые могут быть интересны даже и для самого автора, разбираемого ими в заседаниях; такие случаи бывали. В минувший четверг они, например, слушали знатного книголюба Бориса Павловича, пришедшего на «лампу» вместе с актером театра на Спасской Константином Бояринцевым выступить с художественным словом, представляющим одного из самых значительных и вместе с тем маргинально-укромных писателей современности — Анатолия Гаврилова. Коего, в силу сосредоточенности на малых формах, не сочиняющего рОманов, далекого от литературного мейнстрима и бегущего всякой публичности, знают немногие.
Зато в узких кругах тонких ценителей и снобов этого скромного человека из Мариуполя полагают «чистым бриллиантом «мутной воды» на фоне тонн литературного шлака, абсолютным новатором русского слова — вроде Саши Соколова с его «Между собакой и волком», предрекая автору успешную проверку на прочность во времени, в числе единичных представителей многотысячной пишущей братии.(«книга года»-2005 по рейтингу «Книжного обозрения» и другие почетные звания).
Ходили также слухи, что Борис Павлович в свободный от работы период что-то из Гаврилова успел поставить на сцене Московского художественного театра. Как выяснилось однако, пока это был лабораторный формат — не спектакль, а результат пятидневных репетиций с актерами в виде читки-представления литературного материала. Который открывал, во-первых, оригинального малоизвестного автора (уже потому, что всегда надобно же открывать что-то новое), равно как и самого Павловича столичному театральному бомонду. А во-вторых, по мнению Бориса Дмитриевича, «телеграфная» проза Гаврилова, несмотря на ее бессюжетность, необычайно театральна, фонетична по своей природе, напрямую открыта зрителю (читателю) и без него не живет. Она, собственно, рвется за пределы литературы и как будто ищет визуального воплощения, чем и озабочен сейчас Павлович.
При всем уважении к творческому поиску режиссера, весьма трудно себе вообразить реального, более или менее массового зрителя из нынешних, который был бы готов заплатить театру за «фонетический поток». Вот в лабораторных условиях, так же как и в кругу преданных литературе книголюбш (слегка потерявших дар речи от могучего интеллекта Бориса Павловича), — очень даже. С трепетным вниманием ими был воспринят рассказ, прочитанный артистом Бояринцевым, телеграфирующий новости из жизни доставщика телеграмм (коим в миру и является писатель Гаврилов, не имеющий возможности существовать на редкие и скудные авторские гонорары). Оказывается, люди все еще шлют их друг другу.
А потом был просмотрен отрывок из прелестного фильма, снятого документальным режиссером Б. Караджевым в жанре творческого портрета писателя. Вот он читает свой чудесный рассказ для каких-то простонардных румяных тёть — кто такие? А это корпоратив почтовых работниц! Экзотическая птица посреди них, поддатый Гаврилов с грацией старого нефора самозабвенно танцует свой личный танец… После чего пробирается в кромешной тьме по каким-то городским задворкам: такова работа доставщика телеграмм. Свет его фонарика треугольно выбирает из тьмы фрагменты колдобин, оврагов, деревьев — кто это у нас все ищет с фонарем человека? Некоторым такой Гаврилов кажется беспросветно обреченным, бесконечно печальным. Отнюдь. Если это символ, то — человеческой стойкости, достойного и отличного от других несения индивидуальной судьбы.
— Это экзистенциальное одиночество, вселенская тоска, — поясняет Борис Павлович тип личности, по-видимому родственной ему. Настолько, что на фотографии, запечатлевшей их рядом, они выглядят (так показалось читательницам) как сын и отец. Павлович поправляет: скорее уж — учитель и ученик.





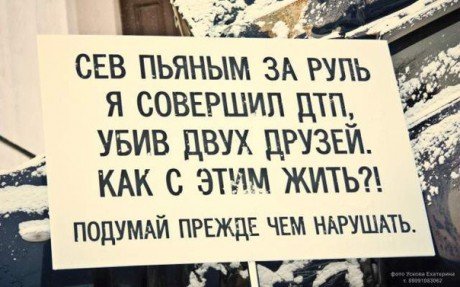





Какой отвратительный пароноидальный бред….