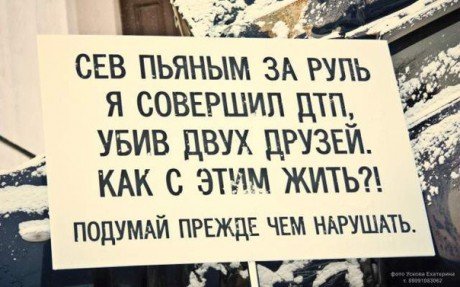Дорогой покойник, коего тридцать лет назад вся дееспособная часть населения большой страны с облегчением проводила в историческое прошлое, довольно скоро стал о себе напоминать ностальгически, по крайней мере в искусстве: ничего более привлекательного в плане социального идеала новое время и близко не породило. А только всё искали какую-то национальную идею, поискали – не нашли, да и отступились.
Однако вот он, почивший во бозе СССР, сегодня предстал в лучших залах мраморного здания ВХМ с полотен советских художников (из фондов музея). Все до боли знакомое, ничто не ушло из памяти, а наиболее запомнившиеся, яркие его представители – могутная в красном сибирячка кисти советского классика шестидесятых Петра Оссовского, а еще счастливая свинья с присосавшимися к ней новорожденными подслеповатыми поросятками (художник Строев), за коими заботливо наблюдают не менее четырех работников колхозной свинофермы. В залах все по хронологии, как в советском учебнике истории: революция, гр. война, индустриализация, коллективизация, культурная революция (соцреализм). Война, новая счастливая многонациональная жизнь. Конец эпохи.
А в ее апогее – большой сталинский стиль. Не менее, чем Сибирячка, репрезентативно своему времени полотно человека с малоприличной уже фамилией Тарас Гапоненко: «Мастера урожая» всех 15 республик, местный вариант кубанских казаков, построившись в шеренгу триумфально несут вождю колосья, хлопок и гигантские свеклы. Впечатляют строгие ученицы у постели больной учительницы, все как одна с каменными лицами – будущие коммунистки (лишь учительницын ребенок с хитрой улыбкой озорника вносит оживление в их идейно проверенные ряды). Школьники солнечным днем (работы Фаины Шпак) хвастаются друг другу пятерками, а не матерятся через слово, как в наши дни. За строителями гигантов промышленности зорко следят люди в форме. Прекрасно использовал изобразительные средства художник Домашников, рисуя мечту коммунистических вождей – тысячи людей построены в правильные колонны на площади, на каждого хватило по одному мелкому мазку кистью, а подробности там ни к чему.
Но время ведь не стоит на месте? С культом личности покончено, в искусстве, как и в жизни, появляются зачатки гуманизма, обращение к отдельному живому человеку – хотя и воплощенные в монументальном суровом стиле. Тоже имеются классики направления. Тут все внимание молодежи, ей принадлежит будущее. Раньше молодежь у А.Герасимова (например) лишь лучезарно улыбалась, культурно отдыхала, а теперь стала более вдумчивой, «суровой» — ей же решать проблемы отцов, строить коммунизм. Любо-дорого посмотреть на группы юных художников, исследователей северных морей, покорителей целины, рыболовецкую бригаду с ухой, где у суровых мужиков такие обветренные, но честные и трезвые лица, где на всех лишь у одного в руке граненый стопарик водки (как так? — но ладно, верим). А чем плох этот положительный «идейный» герой, не больно-то правдивый, над которым посмеивались, но время опять же показало: лучше уж с ним, чем без него, все-таки был идеал, не давал населению полностью оскотиниваться.

По мере продвижения к роковым восьмидесятым, расшатавшим режим, оптимизма в картинах становится все меньше, а реализма больше. О чем это крепко задумался в 1981 году от РХ юноша Крижевского, сидящий на опрокинутой бочке среди выжженной земли? Делать жизнь с кого? Возможно, если он комсомолец, лет через десять станет бизнесменом. Или, наоборот, впадет в ничтожество, сопьется от безработицы и безденежья, такая вот жесткая светит дихотомия. Тут потрясающе жизнеподобна вещь 87 года: «Ждут товар» старые женщины в деревенском сельпо, которого, как известно, с каждым днем все меньше и меньше — исчезают из продажи товары. И вот лица бабулек. У кого полная и тупая безнадега, у другой на досуге приятные воспоминанья, третья просто добрая бабушка и на этом все переживет…Девочка не знает куда деться от скуки. Приятно освещено надеждой лишь одно лицо – молодой продавщицы, так ведь и продавцы в сссрии особая привилегированная каста.
Чем сердце успокоится на излете эпохи, какой новой волной в изобразительном искусстве? Выставка меж тем близка к завершению, однако ничего кроме русской природы в качестве катарсиса не просматривается. И на том спасибо, зато на фоне сплошного людского мелькания я увидела удивительную вещь Никиты Федосова тоже конца восьмидесятых, «Выпал снег», формата небольшого совсем, как на этюде… Снежная равнина, по которой не ходит лихой человек, а просто русская деревня, где осталось два нежилых домишка, замерла перед наступлением зимних сумерек… Вот это – уже наше навеки, и никто не отнимет, только хочется наподольше зависнуть в этом вечереющем небе, в белом снегу – пока не надвинулась полная тьма.