
Жил-был в губернии нашей, точнее, в нашем поселении, мужичок один… Да чего жил-то? И по сей день живет и здравствует помаленьку, а иначе сказочки этой не сказываться. Был он роду-племени простого, да в детстве выучили его папенька с маменькой профессии нужной — конями железными править, дабы граждан всяких-ненужных, нагнав на них жути до изумления, от рубежей государственных отгонять: дескать, не пойти бы вам, мусье, херы и прочие иноземные агрессоры подальше — пока ветер у нас без камней.
Ну рубежи наши и без мужика нашего твердынею стояли, так что бдел персонаж за державу в глубоком тылу. Но не скучал, а трудился во славу и помогал стране-матушке как и чем, стало быть, мог. И отличался он заботою прямо отеческой к отрокам, чей возраст призывным называется. Только взглянет слегка и сразу видит: слаб здоровьем парнишечка — вон бледненький какой. Может язвочкой мучается. И ножки у него неладненько стоят, а такому в лаптях кирзовых в атаку не умчаться.
И помогал он болезным и хворым парубкам, много помогал: кому словом, кому советом дельным, а иного к доктору понимающему направит, — чтобы армию нашу неказистостью своей не портили. И были ему отроковы папы с мамами сильно за то благодарны, и челом били — руки-то заняты: кто барашка в бумажке держит, а кто просто конвертик пальчиками ласкает.
Так допомогался наш мужичок отчизне до штанов с лампасами, и на пенсию вовремя засобирался, ведь многим тогда уже любопытно стало: чёй-то у нас в губернии вьюношей болезных через раз стало — хотя в плечах и сажень косая, и румянец во всю морду, так, что со спины видать. И по девкам как жеребцы стоялые носятся, а вместо плаца питейные заведения строем обходят, — и ни язвы, ни косоглазия, ни плоскостопия тому не помеха.
Короче, решил наш мужик от греха в народное хозяйство податься: определили у него инвалидность второй группы, и, благословив в мир СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ генеральскими окладами, а меньше-то как даш — пуп на служении родине порвал, — отправили в запас. Только мужик-то наш как деньжищу оторвал, будто живой водицы испил, и Горбунком бодрым помчался, только по случаю в штаны парадные обрядился.
И сыграли те портки службу ему важную, так как падким наш люд на лампасы оказался. Вроде даже примета такая в народе была: что, ежели есть у человека штаны с лампасами, то хороший, выхлдит, он человек. Это уж потом-потом, далеко не скоро, но сообразили православные, что под штанинами у всего мужеского пола одно и тож по факту находится. Хотя, чего ж греха таить, некоторые это достоинством иногда величают.
И стал наш мужик народным избранником, и поклялся на кресте — фу ты, прости Господи, на каком-таком кресте, — да просто в торжественной обстановке обязался блюсти интересы народные и служить электорату не хуже, чем о родине душой болел еще в те поры, когда коня железного пришпоривал. И так он крепко заболел — не только душой, но и всем организмом, что долгие годы остановиться не мог: как увидит земельки кусочек или поболе — так в раж: чего ж ты, милая, такая бесхозная? И крикнет вокруг себя: «Зодчие, а зодчие, может кому из вас землицы за надобностью? О цене-то договоримся»!
Или дом какой справный приметит: «Купцы, а купцы! Не надо ль вам по схожей цене»? Или заметит, что детки плохо кушают. Закручинится ужасно и повелит картошечки купить, может, и не самой лучшей, но самой дорогой — поди-ка чадам вкуснее будет? Только подчиненные его сильно страдали: где ж такую взять — картошка она и в Африке картошка. Пятак за вагон. Из каких же стран заморских ее по цене золота чартером везти? Но как-то выкручивались.
И еще верно хранил наш мужичок любовь к коням, благо, что у нас их целые, посчитай, табуны бегают. Но о тех лошадушках, что по областному центру народец развозят, пекся он пуще, чем о других. И приметил как-то, что не очень резвы общественные табуны и задумался надолго: людишкам-то помогать — задача не самая простая. И придумал наконец, и крикнул: «Эврика»!.. Или это кто-то другой крикнул, когда яблоком по маковке прилетело?
И что ж удумал мужичок наш заковыристый: вот взять-бы корму у жеребцов моих бывших — железных, да нашим хлипким городским лошадкам скормить. Железные-то вон как могуче бегают, поди и эти ускорятся? И купил он по знакомству много еды, а точнее, питья, от железных коней отставшегося, заплатил из городской мошны дорого, и велел лошадкам общественным в рацион добавлять.
Только конфуз вскоре случился: городские быстрее не забегали — скорее наоборот. И чихать принялись будто золотушные — только это полбеды. А настоящийся срам случался, ежели приспичит такой лошадке на людях до ветру сходить — тогда уж от вони сумрачной беги покуда глаза смотрят. Зато нашему-то все в радость: эх, клубЫ черные, лязг железый — хоть мундир надевай, будто на параде.
Только парни из службы государевой, что такими затейниками, как наш мужичок, сильно интересуются, глаз на него больно серьезно положили: с одной-то стороны посмотреть, совсем чудак человек: то в автобусы печное или танковое топливо льет, то нечастые парки под дома жилые отдает. Но, с другой стороны ежели глянуть, вдруг умысел у него какой обнаружится? Или корысть какая? Дай-ка внимательно позырим.
И глянули ребята для начала на терем мужичковый, что недавно построен, и шеи едва не свернули — такой там ёперный балет! Батюшки, дак это ж дворец — истинный Парадиз и Тадж Махал одновременно… Ну как тут спецам в уме быстро не прикинуть, сколько ж жизней мужик наш прожил: не пил, не ел, штаны с лампасами не стирал и девкам красным не то, что карету иностранную подаривал, а на кулечек семечек не раззорялся, — чтобы на такую домину накопить? И отпрыску своему не хуже изваять. Нет уж, подумали спецы, не чисто тут — долго так люди не живут. А на свободе особенно.
Но узнал про те мысли тайные мужик наш. Как уж узнал — не нашего ума дело. Только впал он в задумчивость сильную, пребывая в которой сам с собою разговаривал. И выходило, что почувствовал он охоту великую к перемене мест. Думал он про страну с теплым морем, где в собственном домике будет скукотищу бездеятельную хересом сладким запивать, а для развлечений возьмет абонемент на корриду.
И про другие края думал — холодные, что кленовым листом прикрываются. А еще айсберги там всякие, Лабрадоры неуютные, да только в поселке Восточном лютее. Да и друг у него там живет давний — вместе народом избранные были. Фамилия у него такая, дай Бог памяти, заковыристая — что-то на «М», что-то с медом связано. Ну, вроде, решил наш мужик на севера податься, здраво рассудив, что домик-то у теплого моря никуда ж от него не денется.
И стукнул он кулаком по столу: пора ему на покой — хватит уж на благо народное корячится. Только всплакнул пару раз по хоромам новым, да потом одумался: чёй-то слезы лить? Кто сказал, что сопрут все или отымут? Столько лет никто на богатство его не зарился, индивидуально пошитые штаны с лампасами и кителек генеральский на униформу черную, ширпотребскую поменять не предлагал. Поди и тут пронесет!
И успокоился мужик-то наш, ведь деньжищ у него на живую водицу много припасено. Тут и сказке пришел бы счастливый конец, если б мысли об эмиграции мужичка-то нашего не только нам известны стали.





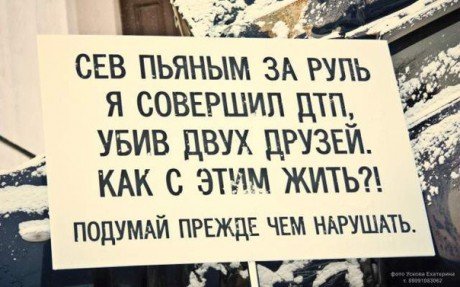







Хахаха, хороший сказ про быка)))
огонь. как всегда супер.
много букв.
ВЕЛИКОЛЕПНО, как у Салтыкова-Щедрина, только бы развязка честная произошла. а не первая группа инвалидности!