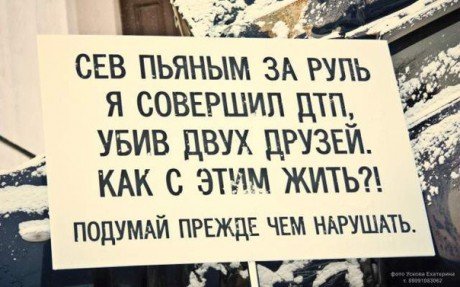Кто еще расскажет нам о старом и новом? Кто щедро поделится с мыслящим меньшинством хотя бы частью своих неисчерпаемых познаний, интересов и культурных связей?
Борис Павлович, он здесь такой один. Иных охотников пестовать местную молодежь не замечено. В какой-то морозный зимний вечер Павлович, например, приводит артистов своего театра в «Холостежь», досуговое заведение нового типа вроде «квартирника», где в уютной обстановке можно сообща заниматься чем угодно: играть, смотреть кино, петь и, теперь оказывается, даже читать вслух.
Читать вслух? Для чего, разве нельзя делать это уединенно и для себя? Ну во-первых, вряд ли у современного человека руки дойдут до «Очарованного странника» Лескова, полагает Борис Павлович, и потом — совместное, как бы даже семейное, чтение объединяет, согревает души. Которым наверняка нелегко живется в толще местного обывательского болота, а главное, чего уж там, в условиях российского полицейского государства, против которого как против лома нету приема, даже если это прямые протестные акции. Так говорит Борис Павлович, ответственно стоящий на позициях народного просвещения и считающий, что от выхода на площади действующий режим только усиливается. Не исключено, что разнообразное гуманитарное подвижничество Павловича проходит по графе «обязательная социальная нагрузка на грант», но это ничуть не умаляет заслуг худрука театра на Спасской перед городом.
И вот артисты, передавая друг другу книгу Лескова, в модном жанре практически «сторителлинга» (рассказывание истории), озвучивают каждый на свой манер вкуснейший, ласковый, простонародно-изысканный язык конэсера Флягина — человека при лошадях, послушника, убийцы, русского гуманиста, божьего избранника. Жизненные скитания коего, одно за другим, восстанавливают заодно и величественные, смачно описанные картины русской жизни, с которой сегодняшнего человека уже ровно ничего не связывает кроме национальности. Молодые люди, поначалу тесно набившиеся в «Холостежь» дабы послушать своего духовно-культурного лидера, после перерыва заметно поредели, зато смогли по крайней мере сесть на диваны и стулья в кругу уже почти семейном, родственном.
Самыми проникновенными чтецами оказались сам Борис Дмитриевич, а также опытные артисты Марина Наумова и Константин Бояринцев. А вот театральная молодежь совершенно понятным образом выказала языковую неосведомленность, произнося некоторые вышедшие из употребления слова и обороты. Да и мы, остальные, тоже получили убедительный урок культурно-исторического ликбеза, душеполезную прививку классической русской литературы. Заодно и открыв для себя эту интересную «холостежь».
Марина АбрАмович, бабушка перформанса: перед шедевром
А буквально на следующий же день, после экскурса в былое, Борис Павлович перемещается в освоенное его театральной лабораторий пространство галереи Прогресса, чтобы помочь студийцам и всем желающим разобраться с искусством современным.
С таким его одиозным и мутным проявлением как «перформанс», под которым всякий акционист понимает свое. Между тем и в современном искусстве уже есть своя классика, планка, высокий образец. Вот он и был показан — в документальном фильме «В присутствии художника», который открыл кировчанам мировое имя: Марина Абрамович (ударение на второе а). Великая и отнюдь не ужасная «бабушка перформанса», красавица, дочь югославских партизан, унаследовавшая от них несгибаемую волю, физическую и духовную силу и выносливость, без которых ее опасные опыты над собой (и человеческой природой в целом) были бы неосуществимы.
Фильм потрясает, недаром сам Павлович смотрел его 4 раза. Не только масштабом личности и честности художника, но и тем, как из рискованных, эпатирующих экспериментов над собой в присутствии публики постепенно вырастает вершина ее творчества — уже за гранью собственно искусства, в области беспредельного человеческого внимания и любви к Другому. Речь идет о последней и самой прославленной акции Абрамович в нью-йоркском музее современного искусства МоМа, которая проходит нитью через весь фильм: это трехмесячный — физически невероятно изнурительный, у бериевских чекистов даже практиковалась такая пытка — марафон сидения Марины Абрамович на стуле. Перед ней прошли тысячи, почти миллион человек (стоящих в многодневной очереди к ней как к религиозной святыне, чтобы побыть с Мариной несколько минут) — и это был «просто» безмолвный диалог глазами сидящих напротив друг друга людей, ничего больше. Никаких слов, телодвижений, только небольшая дистанция вытянутой руки.
Их лица запечатлела камера — честно явившая чудо нездешнего взаимопроникновения, аналогов нет. Как признается Марина, перед акцией она чувствовала себя как Мария Антуанетта перед казнью (теледикторша меж тем сообщала зрителям, что тут приехала «какая-то провокаторша из Югославии»). По мере смотрения на людей Марина постепенно входила в состояние ощущения удивительной красоты мира и влюбленности в него, так что это отражалось в ее глазах, передавалось ее безмолвным собеседникам. Они говорили поэтому: она со мной, только со мной — так им казалось. Потому что от века самая дефицитная и ценная вещь на свете — это быть вместе и чтоб тебя любили. Несколько минут счастья с Мариной Абрамович.
После этого уже как бы нет вопросов, что есть перформанс и зачем это нужно. Впрочем, вернувшись с небес на землю, вопрос этот все равно потом будешь задавать адресуясь к легиону людей, которые называют свое странное занятие тем же самым словом — но за которое они не платят ничего подобного Марине Абрамович.