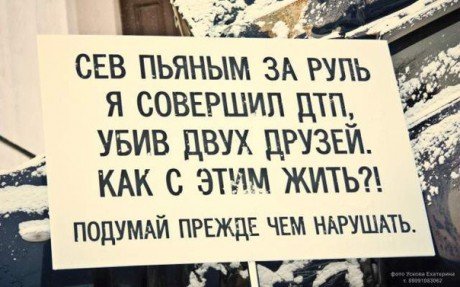Первый Кировский фестиваль театров кукол завершил недельную работу. Пока на сцене отчаянно веселились «батарейки» из труппы Карабаса Барабаса перед процедурой оглашения имен победителей, на душе становилось все более тревожно и муторно.
И — да, жюри во главе с опытным театральным деятелем из Москвы было весьма сдержанно в оценках, не найдя достойных претендентов ни на Гран При, ни на лучшую режиссерскую работу. Пожелав фестивалю, во-первых, рано или поздно выйти из детского состояния и стать взрослым, а во-вторых — любить куклу. Видимо, пока этого жюри не отметило. В целом.
Но ведь чистая правда: в спектакле-лауреате номинации «лучшее художественное оформление» (Оренбургский театр, «Аленький цветочек», художник Марина Зорина, много лет проработавшая в нашем театре в творческом тандеме с Вадимом Афанасьевым) куклу как раз очень любили! И это невозможно было не заметить даже нам, простым зрителям — так продуманны и логичны были декорации, так ловко и подробно прыгали-дрыгали ножками злые и глупые настенькины сестрицы, сов ершенно не случайно грудастые и крикливые — как отвратительная физическая форма своей грубой душевной организации. Основой ширмовой декорации была огромная изразцовая печь, в окнах которой художник успел показать массу всякой дополнительной и важной информации. И тоже не случайно, что зал на этом спектакле был наполнен до отказа, в то время как в других случаях — как раз наоборот. Доходило до смешного: когда надо было проводить с детьми интерактивные действия, актеры с трудом выискивали кандидатов, ведь в зале все больше сидели взрослые — фестивальщики и кировские театралы.
А зритель кто?
Не могли не получить свои заслуженные дипломы лауреатов исполнители главных ролей в сложноустроенном, очень трудоемком, на два с половиной часа, недетском спектакле Озерского (Челябинская область) театра по Брехту «Мамаша Кураж и ее дети». Да, это был мега-труд артистов, с роскошно звучащими зонгами и тяжко рассказанной посредством кукол историей семьи, переживающей очень плохие времена с войной и сокрушением всех привычных моральных ценностей. Это была дипломная работа молодого режиссера, выпускника СпбГАТИ, и, понятно, он делал ее по большому гамбургскому счету. По степени психологической нагрузки на зрителя — что-то вроде нашей «Палаты номер 9». Но все же непонятно, как продается этот депрессивный по настроению, хотя и талантливый спектакль в 100-тысячном закрытом городке атомщиков, и много ли там до него охотников…В наше-то время.
Тоже трудно представить себе репертуарную судьбу другого амбициознейшего проекта (Курганский театр) «Коняги», соединившего в себе архаичную клоунскую форму кукольного балагана — с авангардным решением сценического пространства и приемов игры, практически на одном живом плане и почти без кукол (Вадим Афанасьев, например, страшно возмущался). Рассчитанный на малышей от 5 лет, он вызвал полную растерянность и недоумение как детской, так и взрослой аудитории. Зато был удостоен специального приза жюри.
В целом дипломами лауреатов были отмечены четыре актерских работы, но мне отчего-то больше всех запала в душу ненагражденная трогательная парочка: кукла старик с его руководителем-актером. Как они плакали и обнимались будучи вытолканы взашей алчной старухой! Актер этот был как будто двоечник, не знавший сказки Пушкина, и постоянно просил у зала подсказки. Но, к сожалению, не угадал ни одной буквы — остался без диплома («Сказка о рыбаке и рыбке», г. Лобня).
Что касается надежд кировчан на «Палату номер 9», которая участвовала в конкурсе, то они, к сожалению, не оправдались. Жюри смогло заценить лишь музыкальное оформление спектакля, что явно маловато для работы, которую планируют заявить на «Золотую маску».
Нет, недаром настырные журналистки пытали перед началом экспертов — насколько сильный состав участников. Все они, в общем, оказались более или менее одного уровня с нашим, и особо ярких звезд вроде тех, что показали нам на «Ковчеге», не наблюдалось. Ну и что из этого? Всюду жизнь, и здесь она такая, какая есть. Надо работать, надо много работать, дядя Ваня…